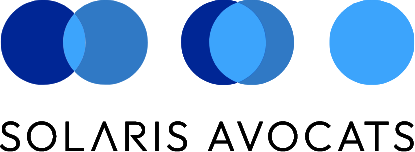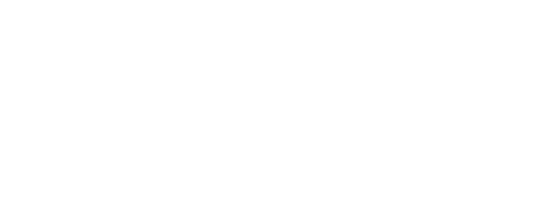Вопрос о том, должен ли апелляционный суд указывать в резолютивной части своего решения, изменяет ли он, отменяет или подтверждает оспариваемое решение, недавно вызвал жаркие споры. В одном из недавних решений Коммерческий отдел Кассационного суда постановил, что статья 542 Гражданского процессуального кодекса не устанавливает такой обязанности, что вызвало непонимание и критику в отношении конкретной роли апелляционного судьи.
Предыстория и напоминание о правовой базе
Процедура обжалования во французском праве традиционно регулируется двойной логикой. С одной стороны, статья 542 Гражданского процессуального кодекса устанавливает, что цель апелляции — «путем критики решения, вынесенного судом первой инстанции, добиться его отмены или аннулирования». С другой стороны, современные процессуальные требования, подкрепленные многочисленной судебной практикой, начиная с 2020 года, требуют, чтобы апеллянт в резолютивной части своих состязательных бумаг прямо просил об отмене или изменении решения. В противном случае адвокаты могут столкнуться с серьезными санкциями: подтверждение оспариваемого решения или, что еще хуже, апелляционное заявление может быть отменено.
Основная цель этого изменения — уточнить функции апелляционного судьи, который должен быть «судьей решения», прежде чем стать «судьей спора». По мнению законодателя и судебной практики, цель состоит в том, чтобы не допустить, чтобы апелляционное производство во всех отношениях дублировало вторую первую инстанцию, как если бы первого решения никогда не существовало. Требование к адвокатам подавать официальное заявление об отмене или аннулировании решения призвано подтвердить, что Апелляционный суд должен сначала вынести решение по самому решению. Только после этого он выносит решение по существу, если это необходимо.
В связи с этим Коммерческий отдел Кассационного суда недавно вынес решение, которое удивило многих практикующих юристов. В нем говорится, что статья 542 Гражданского процессуального кодекса, поскольку она ограничивается определением «предмета обжалования», не требует от судьи апелляционной инстанции указывать в резолютивной части своего решения, изменяет ли он, отменяет или подтверждает обжалуемое решение. Многим такое решение кажется противоречащим противоположному требованию, предъявляемому к адвокатам, указывать в своих первых представлениях на намерение отменить или аннулировать решение суда первой инстанции.
Более формальные требования к адвокатам
С 2020 года Кассационный суд неуклонно ужесточает формальные требования, предъявляемые к апеллянтам. Тексты, касающиеся апелляционного производства, трактуются строго, в частности, Вторая гражданская палата постановила, что апеллянт должен включить в резолютивную часть своих состязательных бумаг ходатайство об отмене или отмене решения под страхом наказания. Впоследствии это прецедентное право было распространено на встречные апелляции, и отсутствие прямого заявления об оспаривании судебного решения приводило к тому, что Высокий суд подтверждал ex officio или объявлял апелляцию недействительной.
Поэтому юристы приспособились, но не без труда. Обязанность подавать судье заявление об отмене или аннулировании решения стала необходимым шагом в обеспечении апелляции. Иногда это делает процедуру более громоздкой, поскольку многие специалисты привыкли сосредотачиваться на существе дела, полагая, что только по представленным материалам можно понять, какая сторона и по каким пунктам оспаривает решение.
Аналогичные рассуждения можно применить и к ответчику, у которого, по общему признанию, меньше текстовых обязательств в этой области, но который из благоразумия часто приходит к выводу, что решение должно быть подтверждено, чтобы защитить себя от любых процессуальных претензий. В результате апелляционное производство превратилось в минное поле, где пропуск сакраментальной формулы может привести к радикальным последствиям. Это формальное требование было закреплено в статье 542 Гражданского процессуального кодекса, которая была истолкована как краеугольный камень, требующий не только наличия критики, но и четкого формулирования претензии к судебному решению.
Противоречивая позиция кассационного суда
Отмена — или, по крайней мере, решение, недавно принятое Коммерческой палатой, — стала неожиданностью. В деле, по которому было вынесено рассматриваемое решение, Апелляционный суд вынес решение непосредственно по требованиям по существу, не высказываясь прямо о судьбе решения первой инстанции. Поэтому апеллянт пожаловался на молчание суда второй инстанции, которое было тем более удивительным, что первый судья уже вынес решение и что апеллянт просил отменить это решение. Согласно апелляции, решение апелляционного суда не соответствует статье 542 Гражданского процессуального кодекса, которая логически обязывает апелляционный суд изменить, отменить или подтвердить первоначальное решение.
По сути, Коммерческая палата ответила, что статья 542 просто определяет предмет обжалования, не требуя, однако, от апелляционного суда указывать в резолютивной части, что оспариваемое решение должно быть изменено, отменено или подтверждено. По мнению некоторых авторов, это является разновидностью процессуальной «шизофрении», поскольку если адвокаты обязаны прямо заявлять претензии к решению суда, то логично, что судья, в свою очередь, должен решать этот вопрос. Кроме того, существует реальный риск путаницы: если суд не подтверждает и не отменяет решение, остается ли решение первой инстанции применимым наряду с новым решением? Не приведет ли это к накоплению решений в ущерб правовой определенности?
В адрес этой судебной практики был высказан ряд критических замечаний: отказ в последовательности, поскольку она навязывает сторонам то, что судья позволяет себе игнорировать; отказ в справедливости, поскольку по действующему принципу все, о чем просят стороны, — в данном случае отмена или подтверждение — должно получить ответ под страхом отказа в вынесении решения; отказ в должностных полномочиях, поскольку сама функция судьи апелляционной инстанции заключается в вынесении постановления по решению до вынесения решения по спору.
Практические последствия и перспективы
Первое последствие этого постановления заключается в том, что оно вносит неопределенность в практику. В подавляющем большинстве апелляционных судов судьи обычно начинают свои решения с фразы типа «Суд, вынося публичное решение, изменяет (или подтверждает) решение, вынесенное арбитражным судом…». Считалось, что такая формулировка — не просто вежливый обычай, а подлинное процессуальное обязательство. Согласно новому решению Коммерческой палаты, этот торжественный шаг, который должен соответствовать требованию о передаче дела в суд для отмены или аннулирования, не будет иметь обязательной юридической силы. Многие опасаются, что такое послабление дестабилизирует саму архитектуру апелляционной процедуры, которая основана на иерархии инстанций: апелляция подается для того, чтобы было вынесено решение, и только потом — спор.
На практике более чем вероятно, что подавляющее большинство апелляционных судов будут продолжать однозначно изменять, отменять или подтверждать судебные решения, хотя бы из соображений ясности. С другой стороны, в случае нескольких конкретных решений решение Коммерческой палаты может заставить некоторые суды ограничиться рассмотрением спора по существу, что может привести к возникновению двусмысленных ситуаций. Юристы, со своей стороны, будут и впредь внимательно относиться к формулировкам своих состязательных бумаг: было бы опасно полагаться на любое косвенное упрощение, поскольку предыдущая судебная практика остается строгой, когда речь идет о наказании за отсутствие прямого требования в судебном решении.
В более отдаленной перспективе мы можем надеяться на отмену или, по крайней мере, на разъяснение со стороны кассационного суда. Последовательность гражданского судопроизводства требует, чтобы, если апеллянт обязан просить об отмене или изменении судебного решения, суд, принявший решение, должен был официально ответить на эту просьбу. Общая тенденция последовательных реформ (декреты, циркуляры, прецедентное право) направлена на все большую формализацию апелляции как средства реформирования, а не просто повторного рассмотрения всего спора. Поэтому представляется противоречивым освобождение суда второй инстанции от необходимости делать какие-либо четкие заявления о судьбе оспариваемого решения, хотя в абсолютном смысле это должно организовать правовую определенность для тяжущихся сторон и положить конец конфликту.
Это постановление Коммерческой палаты вызвало множество вопросов в мире адвокатов и судей, а также в целом у всех практикующих специалистов по гражданскому судопроизводству. Оно не просто анекдотично, оно ставит под сомнение саму последовательность роли апелляционного судьи. Если логично предъявлять к юристам четкие формальные требования при передаче дела в суд, то не будет ли столь же последовательным требование о том, чтобы суд выносил официальное решение о подтверждении, отмене или аннулировании оспариваемого решения? Вопрос остается открытым. В настоящее время остается «серая зона», и можно не сомневаться, что кассационный суд, столкнувшись с другими апелляциями, рано или поздно будет призван еще раз прояснить сферу применения статьи 542 Гражданского процессуального кодекса. До тех пор благоразумная и традиционная практика прямого определения судьбы судебного решения, несомненно, останется правилом де-факто в большинстве французских апелляционных судов.